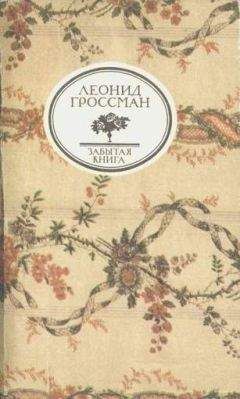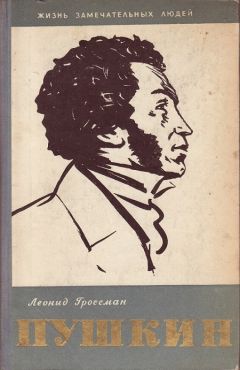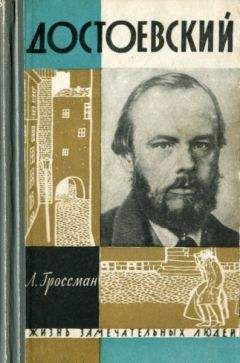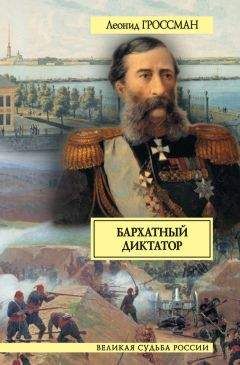Леонид Гроссман - Записки д`Аршиака, Пушкин в театральных креслах, Карьера д`Антеса
— Вы правы, дорогой д'Аршиак, — заметил Тургенев, — иностранцы оказались выше наших аристократов. Вы жалеете о нашем Пушкине, как о своем соотечественнике.
— Пушкин, как гениальный поэт, принадлежит не одной только России, но всему человечеству.
Жуковский горячо пожал мне руку.
— Если бы его вовремя отпустили в Европу, — произнес он со слезами на глазах, — его гений достиг бы небывалых размеров и жизнь бы его была спасена.
А вокруг уже раздавались первые гневные голоса, призывавшие на суд убийц Пушкина.
По городу в бесчисленных списках распространялось стихотворение молодого поэта Лермонтова с эпиграфом на мотив из нашего Ротру:
Prince et pere a la fois, vengez-moi, vengez vous![34]
Через три года автор этого гимна, «На смерть поэта», имел дуэль на шпагах с сыном Баранта, а в следующем году он был наповал убит на пистолетном поединке.
Стихотворенье поразило нас. В нем было несколько сокрушительных строк по адресу убийцы. Д’Антес был резко заклеймен в нем именем пустого искателя успехов в презираемой им чужой стране, чью лучшую славу он не сумел пощадить.
— Это отдельное мнение, — успокаивала своего мужа Катрин, — мнение поэта, восхваляющего другого поэта, оно не должно огорчать тебя…
— Нет, это, кажется, становится мнением большинства в вашем обществе.
— Ты ведь знаешь отношение к тебе Нессельроде, дяди Григория…
— Но народ толпится у дома Пушкина, не умея разбираться в фактах, не желая отделять человека от таланта. Я для них — только иностранец, убивший их поэта…
Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу.
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила.
Чтоб видели злодеи в ней пример.
— Но ведь ты не мог поступить иначе, ты действовал мужественно и героически!
— Я, во всяком случае, поступил как порядочный человек. Он сам хотел смерти и получил се… Tu l'as voulu, Georges Dandin!
Д'Антес вообще не испытывал никакого сожаления или раскаянья. Он считал, что совершилось неизбежное — в смертельной борьбе он отстоял свою жизнь; все остальное отступало в тень.
— Жаль только, — прибавил он, — что я лишен возможности притянуть к барьеру сочинителя этих ругательных стихов…
Барон Геккерн был в некоторой тревоге. Смерть Пушкина избавила его, правда, от необходимости лично рассчитываться с ним за полученное оскорбление, но в то же время осложняла его положение в России и ставила под вопрос его дальнейшее пребывание в ней. Посланник прочел мне свои письма к Нессельроде и к своему министру — Верстолку, в которых он говорил о своих скромных средствах и необходимости сохранить свой пост «при императорском дворе».
— Вы подумайте, — прибавлял он с горестью, стоя среди своих коллекций, — что станется со всеми этими сокровищами, если мне придется второпях оставить Петербург? Ведь мне придется продать их за бесценок! Ведь это разоренье!..
И острым взглядом опытного дельца, определяющего в уме прибыль и убытки от движенья товаров, он оглядывал свою бронзу, фарфор, эмаль и знаменитые фламандские полотна, отмеченные подписями великих мастеров Яна ван Скоорля и Гаверкорна ван Рийсевика.
Я пожелал Геккерну оставаться при петербургском дворе. В последний раз замкнулись за мной темные дубовые двери с изображением вздыбленного льва, фехтующего золотым оружьем на голубом поле герба соединенных провинций.
Последним из русских, простившихся со мною, был Александр Тургенев. Той же ночью, по, приказу царя, он выезжал из Петербурга с гробом Пушкина для погребения его в далеком, глухом монастыре.
— Наше правительство не забыло похорон генерала Ламарка, — объяснил он мне, — оно опасается революционной демонстрации.
Я вспомнил знаменитое погребение вождя французской оппозиции, залившей кровью квартал Сен-Мартен.
— Я перевозил в моей жизни много драгоценного, — сказал мне на прощанье Тургенев, — инкунабулы и ватиканские рукописи, помпейскую бронзу и римские бюсты, древние вазы и медали. Думал ли я когда-нибудь, что мне придется перевозить тело величайшего русского поэта…
ИЗ КАМЕР-ФУРЬЕРСКОГО ЖУРНАЛА
2 февраля
55 минут восьмого часа ее величество государыня императрица с их императорскими высочествами выход имели в золотую гостиную комнату в собрание, где по распоряжению балетмейстера Титюса начались репетиционные танцы к маскараду.
Его величество выход имел в собрание во время уже начатия танцования.
Гости угощаемы были чаем, питьем и мороженым.
А пока великие княжны вместе с наследником Российской империи и принцем прусским Карлом под звуки конногвардейского оркестра выполняли сложные эволюции гавота по жезлу известного преемника Ле-Пика и Дидло легконогого Титюса, — в подвале Конюшенной церкви под деревянную трескотню молотков служители спешно заколачивали узкий ящик с красным бархатным гробом.
Поэта Пушкина снаряжали в его последнее странствие.
* * *…И вот снова крытый возок на полозьях мчит меня по глубокому снегу бесконечными сосновыми лесами сквозь безлюдные равнины древней Ингерманландии к бедным поселкам Восточной Пруссии.
Петербург за мною. Тринадцать месяцев отделяют меня от того момента, когда чиновники столичной заставы с глубокими поклонами перед знатными путешественниками пропустили за полосатый шлагбаум посланника короля французов с его свитой.
Сколько лиц, сколько происшествий пронеслось за этот срок! С какой быстрой изменчивостью мчится жизнь, беспрестанно слагаясь в новые формы и мимоходом сплетая свои неожиданные сочетанья людей, событий и катастроф. Два министерства успели пасть во Франции, четыре головы скатились в кузов гильотины на площади Святого Иакова. Несколько человеческих взводов засечены насмерть в армии императора всероссийского. Французские войска снова высадились на африканском побережьи. Испания истекла кровью от небывалой гражданской войны, массовых казней и беспощадного разгрома целых областей.
Россия стремится быть неподвижной. В этом — представление ее верховного властителя о государственной мощи и державной силе. Тяжелой статуей с остановившимися зрачками давит он на живую человеческую глыбу своего пьедестала. И атрибутами этой верховной власти выступают по углам монумента сова Нессельроде, боров Чернышев, Бенкендорф с головой летучей мыши и Уваров с мертвым взглядом филина. Сколько ночных сил и затаенной хищности скопилось в балдахине этого пышного трона…
Все вокруг мертво.
Целое общество стынет, окованное всепоглощающим раболепством, глухое ко всему, что не сулит ему титулов, состояний и житейских наслаждений, еле затронутое однообразным движеньем своих празднеств, размеренных, как вахтпарады. И даже лучшие среди этой толпы — задумчивый Жуковский и язвительный Вяземский, европеец Тургенев и братья Виельгорские, вечно склоненные над нотными знаками своих партитур и гнутым деревом своих инструментов, — как все они молчаливы, покорны, беспомощны и бессильны! И каким-то зловещим воплощением, мрачным прообразом всей этой среды выступает из ее рядов дряхлая и чудовищная голова старухи Голицыной, сотрясающая в своей предсмертной судороге шелковыми розанами и накладными буклями своего допотопного головного убора.
Мертвые люди в омертвелом городе, среди безмолвной страны. И только затаенные вожделенья темных страстей придают какое-то скрытое волненье этой непонятной и неподвижной толпе. Сложные, мелкие и злобные расчеты тщеславия, алчности, властолюбия и разврата плетут свои интриги и расставляют свои сети среди позолоты и лака этих дворцовых зал…
А над всем этим пустынным миром министров, посланников, кавалергардов и камер-лакеев возникают два образа: поэт и женщина небывалой красоты. Они на недосягаемой высоте, над пестрой и унылой толпою гостиных и приемных, над всеми суетными помыслами и мелкими вожделеньями, отмеченные своими особыми и неумолимыми судьбами, окутанные предчувствием великого страдания, — живая легенда, трагическая и неизъяснимая…
Петербург позади. Сани мчат меня из Таурогена. Передо мною из снежных сугробов вырастает желто-черный столб с одноглавым распластанным орлом. Через час я в Тильзите.
Легкая вьюга заметает морозной пылью глубокие борозды от наших полозьев.
Петербург в прошлом. Россия за мною.
ЭПИЛОГ
I
В заключение моих воспоминаний я приведу письмо, полученное мною от барона Баранта вскоре после моего возвращения во Францию.
Париж. Министерство иностранных дел,